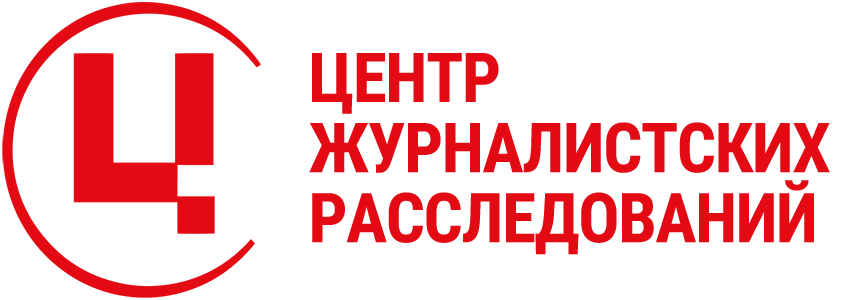Младшая сестра моего отца, моя тётя Марина, была в раннем детстве настолько хороша, что даже постовой милиционер на углу Пестеля и Литейного как-то воскликнул : «Господи, Ангел твой!»
И перекрестился.:)
Первого марта ей должно было исполниться три года.
Должно было, но не исполнилось, потому что она умерла от голода тринадцатого января.
13-ого января 1942-ого года.
В Ленинграде.
Её мать, моя бабушка, на следующий день завернула Марину в плед, положила в детские санки и пошла её хоронить.
Пешком, с Рылеева, в минус двадцать, на Пискарёвское кладбище. Этот путь и сейчас, даже летом взрослому, сытому мужчине дастся не просто.
Когда всё кончилось, ей очень хотелось остаться там, с дочкой, просто заснуть. Но дома ещё дышал пятилетний мальчик, её сын, за которым смотрели соседи, которые очень плохо ходили от голода.
И она дошла обратно, сварила из какого-то обойного клея суп, размочила сухарь и накормила сына.
И делала так каждый день.
И они выжили.
Не благодаря усатому упырю, не благодаря Красной Армии, которая, следуя его приказам могла поставлять в Ленинград сырье для военного производства тысячами тонн и вывозить готовую продукцию, но не могла провести продовольствие для людей, которые уже были обречены, которые должны были волей упыря стать символом.
Они выжили потому, что мой дед двадцать восьмого февраля 1942-ого, случайно оказавшись в Кобонне, просто угнал штабную полуторку, проехал по липовому командировочному через Дорогу Жизни и забрал их.
Мальчик, который потом стал моим отцом, был скелетом, обтянутым синей кожей, сквозь которую видно, как бьётся сердце.
Его мама, моя бабушка, высокая красавица, какой дед её помнил — стала седой старухой.
В неполные тридцать лет.
А потом дед отправил их в эвакуацию, где Люди, которых теперь уроды называют чурками, отдавали им последнее, забирая у своих детей.
Делились всем, как делятся только с родными.
Моя бабушка, мой отец выжили не благодаря, а вопреки советской власти, только сплочённость соседей, жертвовавших собой ради маленьких, только стойкость духа, только личности, что не имели страха в сердце.
Только личное мужество.
Никакого Государства там не было.
Как-то, в девяносто шестом, я попросил деда рассказать о том, что он видел, тогда, объезжая блокадный Питер.
Он ведь ещё забрал родственников и тех кто ещё был жив, из семей своих сослуживцев.
Он, офицер, прошедший всю Вторую Мировую, прошедший на передовой, попытался что-то сказать и его глаза наполнились слезами.
«Не могу. Страшно…»
После всего, что он видел на той войне, после всего, что он прошёл как боевой офицер, через пятьдесят лет — ему было страшно вспоминать об одном дне в блокадном Ленинграде сорок второго.
Но бабушка рассказывала иногда и страшно делалось уже мне.
И, да, в моей семье НИКОГДА не выкидывали хлеб.
Даже через половину века после Блокады.
А завтра у нас в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади будет проводиться очередной праздник — парад, совмещённый с костюмированным фрик-шоу, посвящённый Дню снятия Блокады.
Наверное, будут раздавать всем желающим «блокадные 125» хлеба, потом, как всегда — народные гуляния и салюты, совмещённые с предвыборной компанией будущего беглогва губернатора, ой простите, будущего губернатора беглова.
Уже эмоций почти не осталось.
В этот день можно делать только одно :
В полдень, по выстрелу Петропавловской пушки, просто на минуту остановиться и подумать.
Подумать о том, к чему приводит война, о том, что победителей в ней не бывает, есть только мёртвые и пострадавшие.
Подумать о том, как не допустить больше такого.
И включить на эту минуту все сирены и гудки, как плачь, обращённый к Небу.
А потом просто стараться жить так, чтобы нашим мёртвым не было за нас больно.
Больно, от того что наша страна, прямо сейчас ведёт две несправедливые, преступные войны, а, следовательно, ничему не научилась.
Мне очень стыдно, за то, что будет завтра утром в Санкт-Петербурге.
Для меня это — очень личное.
Источник: Facebook Филипп Артуа